Главная / Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / 2008 / №9 2008 – Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры
Карташев П. Б. (отец Павел). Эссеистика Шарля Пеги (тезаурусный анализ)
УДК 82
Аннотация: Автор статьи применяет тезаурусной метод исследования к эссеистике французского философа Шарля Пеги (1873–1914).
Ключевые слова: тезаурусный подход, Ш. Пеги, эссеистика.
Крайности субъективизма, возникающие в развитии гуманитарных наук наших дней, вновь поставили перед современными учеными непреходящую задачу поисков адекватной объективности научных исследований, обновляемой в соответствии с требованиями эпохи. Так в гуманитарной области знаний за истекшее десятилетие сформировалась тезаурология.
Тезаурусный подход к изучению феноменов культуры и, в частности, литературы, является не просто своеобразным синтетическим актом, в механическом усилии сопрягающем различные гносеологические планы и аспекты, но методом познания, применение которого выделяет и усиливает в соединении умозрительных планов — субъективного и объективного, личного и общезначимого, дискретного и непрерывного — функционирование какой-либо составляющей бинарного целого в контексте своей противоположности. Но не поочередное или параллельное усиление диалектических противоположностей представляется внутренней предельной целью тезаурусного метода: его смысл просматривается в иной аксиологической перспективе, в которой сокровища глубоко личного обретают язык и формы общезначимого характера; личное, не умаляясь и не трансформируясь, но, пребывая как бы в некоей сокровищнице — собственно в тезаурусе, становится достоянием множества личностей.
Таким образом, тезаурусный подход, призванный по определению претворять разрозненное в стройность и завершенность, находить самобытному соответствия, а на темное проливать свет, обнаруживает свою особую плодотворность в опыте осмысления творчества писателей и мыслителей, которых трудно, если не невозможно, отнести к какому-нибудь определенному литературно-художественному направлению или философской школе. Подобным, «ни на кого не похожим поэтом» (С. С. Аверинцев), богословствующим философом, издателем и публицистом был во Франции Шарль Пеги (1873–1914). При первом приближении ко всему, что написано им стихами и прозой, создается впечатление мыслительной неупорядоченности, стихийной разбросанности в освещении проблем и в выборе тем. Первые впечатления, впрочем, скоро исчезают при более глубоком знакомстве с Пеги, и он все отчетливее видится читателю как человек предельно искренний, волевой и честный, соединивший, сплавивший в горении юношеской чистоты и максимализма разнообразные впечатления и ценности истории и современности.
В тезаурусном методе исследования культуры важна категория единства, выступающая организующим, структурирующим моментом в составлении «общего образа» части мировой культуры или творчества отдельного художника. «Единство тезауруса, — пишут в работе «Тезаурусный анализ мировой культуры» Вал. А. Луков и Вл. А. Луков, — обеспечивается субъективно через единство личности»[1]. В этом аспекте личность Ш. Пеги уникальна внутренним единством своих стремлений и усилий. Читателям Пеги важно проникнуть сквозь поверхность его многословия и высокопарности, чтобы обнаружить и осознать глубинную связность, логичность и целесообразность всех его наблюдений, описаний и рассуждений, составляющих в совокупности законченное, но и открытое новым прочтениям, явление творческого подвига мыслителя и поэта.
Итак, эссе Шарля Пеги представляют собой лавинообразные публицистические высказывания, нерегламентированные ораторские выступления, которые содержательно тяготеют к философскому и фрагментами богословскому осмыслению реальности. В них ярко выражена и литературная тема, которая не только дополняет и уточняет основную мировоззренческую линию, приводя свои специфические примеры в подтверждение главных тезисов, украшая логику философских раздумий поэтическими иллюстрациями, но в черед своего явления под пером автора она сама становится главной, так как доминирует у Пеги всегда чувство, с одинаковой и равноправной энергией выражающее себя в том, что его в течение монолога волнует: будь то диалектика милости и права в общественно-историческом процессе, дело Дрейфуса, философские системы Декарта и Бергсона, военная угроза Франции со стороны Германии, современное священство Католической Церкви или, наконец, прекрасные строки — то есть слова и образы поэтов и драматургов. В первую очередь поэтов и драматургов, гораздо менее прозаиков-беллетристов и эссеистов.
Для творческого метода Пеги-эссеиста характерно постепенное наложение или проникновение одной темы в следующую, незаметно возникающую, по крайней мере на взгляд обыкновенного читателя, в недрах предыдущей. Эта психологическая и, следовательно, стилистическая особенность его метода напоминает феномен интерференции в физике, когда встречные или однонаправленные звуковые волны резонируют одна в другой и в этом движущемся сочетании рождаются новые перспективы, дают себя непосредственно ощущать такие ассоциации, которые не наблюдаются в каждой теме или проблеме, взятой в отдельности. В этом плане о Пеги можно говорить как о мастере перекликающихся ассоциаций, аллюзий и внушений.
Внутренняя, в тексте, тематическая неразграниченность, нестрогость дополняются у Пеги еще одним его свойством: он увлекается каким-либо возникшим по ассоциации предметом настолько, что, кажется, забывает о начальном, заявленном вопросе, бросает его и на десятки страниц отдается новой, близкой, проливающей свет на первую, но все же другой фигуре, другой проблеме. Такова, например, фактура или, глубже, структура двух его известных, посмертно опубликованных текстов: «Очерка о г-не Бергсоне и бергсоновской философии» и «Общего очерка о г-не Декарте и картезианской философии». В первом речь начинается с Бергсона и продолжается о Декарте, а во втором — почти наоборот. Почти, потому что и в том и в другом разговор попутно затрагивает другие важные вопросы: экклезиологии, истории Франции, французской литературы.
В свете перечисленных особенностей очерки Пеги, даже на поверхностный взгляд, предстают единым текстом. Некоторые его произведения были написаны на рулонах бумаги. Они и похожи — и внешне, и внутренне, в смысле развития разбудившего лавину слов какого-нибудь образа или чувства, на раскручивающийся во времени монолог-свиток. Для Пеги монолог — это реплика в пожизненном диалоге; его слово, конечно, диалогично, оно часто является вопросом, кратким или монументальным, объемным, еще чаще ответом и трудно найти, если не невозможно, такое, которое не было бы откликом или обращением: к Богу, Матери Божией, святым Церкви, и далее, по нисходящей, соратникам, противникам, авторитетам, действительным и ложным. Монологи Пеги, то есть его эссе, его очерки и разросшиеся в самостоятельные громадные тексты заметки и комментарии, всегда напряженно полемичны и читающий скоро вступает с ними в силовое взаимодействие: активно притягивается на сторону автора, или отталкивается в лагерь его оппонентов.
В произведениях Пеги усматривается некое всеобъемлющее единообразие. Это единообразие — становящееся однообразием, когда теряется читательское внимание и сопереживание — вызвано очевидными факторами, среди которых первый и решающий: авторство, принадлежность текстов личности цельной, сжатой, упрямой, собранной, постоянно уточнявшей и углублявшей истоки и смысл своего миропонимания, своей веры. Производными от первого фактора являются и удивительное стилистическое единство произведений Пеги, и возникающее при чтении чувство горячей преданности автора своей единственной, неизменно превозносимой Франции, своему народу, языку, своей древней культуре, уходящей через Империю римлян корнями в Грецию Гомера и Платона. Среди факторов единообразия имеются и более тонкие, философские, описанные Бергсоном, постулирующие сведение многословия и многообразия к простейшим, фундаментальным, первичным интуициям. У Пеги все это, на первый взгляд парадоксально, присутствует: его словообилие предстает простодушной, нескрытой лабораторией поиска единственно верных, самых точных, предельно простых слов о предмете.
Здесь следует еще раз подчеркнуть — в аспекте этой же интуиции, в качестве особенности стиля и мышления автора — феномен взаимопроникновения тем, выражающий себя, в частности, в неожиданных связях и сближениях и отражающий первичную реальность, то есть взаимозависимость, взаимную ответственность и сокровенное родство лиц, сознаний, энергий, событий и предметов, составляющих всеобщий порядок, единый космос.
Согласно Шарлю Пеги, во всемирной истории, постоянно выявляется родственное или близкое в непохожем, отдаленном. Это происходит в силу того, что история есть история людей. И в этом едином, едино-образном, человеческом измерении с эллинами соседствуют иудеи, историческое «возрастание» которых представляет стержень истории человечества. Углубленное постоянство еврейского народа, «упрямо поклоняющегося в течение 30 и 40 веков Одному и Тому же Богу»[2], подготовило христианскую эру.
Народы, культуры, цивилизации подобно людям переживают молодость, зрелость и увядание, старость печальную или, напротив, маститую. Это течение жизни органично проникает, прорастает в новую эпоху. Взаимопроникновение эпох настолько очевидно, что не может быть речи об их границах, но при наличии преобладающих признаков той или иной культуры в определенный период времени становится возможным, что и делает Пеги, называть эпоху по имени ее условной доминанты: существуют, по словам Пеги, «эпоха Запада, эпоха Востока. Греческая эпоха, римская эпоха, иудейская эпоха, христианская эпоха»[3]. Существуют временные рамки вечного, вхождение временного в вечное и их составление без растворения в одно целое, «наложение» несоизмеримого и, однако, реально, хотя необъяснимо, сосуществующего.
Следует подчеркнуть, что одним из ключевых понятий в творчестве Пеги, использующимся во многих его эссе, является «укоренение». Он часто и с настойчивой акцентуацией пишет об «укоренении» вечного в судьбе, в длительности земного бытия народа, о временных пределах надвременного иудаизма, о временном измерении вечного христианства. Временное корнями уходит в вечное и вечное цветет и отцветает, и вновь цветет и отцветает во временном. Время и вечность необходимы друг другу, если их со-бытиé рассматривается — а только так оно и может нами обсуждаться — из времени. О времени нельзя говорить и мыслить вне вечности, иначе, в своем логическом пределе время обессмысливается. Время и вечность в истории соединяются так, что не возникает, то есть не мыслится новая действительность, аннулирующая свои составляющие. Об этих двух реальностях Пеги рассуждает часто, после 1908–1910 гг. в каждом тексте, и всегда в понятиях и терминах, близких богословию или даже прямо богословских, христологических, знакомых ему по Катехизису. В Лицее Орлеана Пеги изучал Основы Христианской Католической веры и прилежно готовился к Таинствам Миропомазания и Причастия. Он причастился впервые в 12 лет.
В понимании Пеги «укоренение» есть собирание, концентрация, фиксация временного и вечного в плодах человеческого труда. Например, в некоем сооружении, в городских стенах, заключающих в окружность из камня хрупкую общность людей, которая без защиты, под напором извне, без четко очерченного круга повседневных забот и ответственности, развеялась бы в мире. Укоренение видится Пеги как «материализация самого времени… и вечного во временном, удержание того и другого в твердом» веществе скульптур, зданий, полотен, книг, в веществе ощутимом, обозримом, с тем, чтобы уплотнить, стянуть время в усвояемое пространство. Здесь разворачивается, как говорит Пеги, одна из самых великолепных метафизических операций, состоящая в превращении истории в географию.
Пеги очарован раскрытой в прошлое, вбирающей его в себя «метафизической конверсией»[4]. Суть ее заключена в обращении времени в место, хроноса в топос, прошлого — огромного, неохватного — в сжатое настоящее, в точку, в средоточие присутствия и наличности. То есть в средоточие настоящего, в длящуюся неподвижность, в живую неизменность. Пеги прозревает глубину времени на одном каком-нибудь узком участке пространства, например, на улице Рима, или Парижа, где под мостовой, под ногами пешеходов, перпендикулярно данному мгновению в данной точке, лежат 28 и 20 веков истории.
Основание любого города, по мнению Пеги, представляется событием религиозным. На это указывает и этимология[5]: в «основании» встречаются два плана бытия — прежде неопределенное, как будто носимое ветрами истории существование племени, народа обретает форму, оседает. Пеги вводит в один из своих историко-философских текстов (этот текст с равным успехом можно было бы охарактеризовать как философско-богословский или культурологический), в эссе «Диалог истории с душою во плоти» тему основания для завершения и разрешения цепи аналогий, расширенных применительно к судьбам государств и народов: «непринужденное детство», отличающееся естественным незнанием, «неподчинением» законам политики и экономики, родственно «самовластной гениальности», для которой характерно вышеестественное «неподчинение» нормам социальности и психологии, и последнее подобно племенному, народно-стихийному началу нации, когда еще не преобладают в ее бытии центростремительные силы политической самобытности и явны, напротив, проявления разгульности, вольности.
Но «основание», аналогичное понятию «укоренения», говорит о моменте наступившей зрелости и сознательного «подчинения», от чего жизнь не только не слабеет, но приобретает, наконец, возможность реализовать себя в основательном, обжитом и ощутимом пространстве. Эта материализация прежде бестелесного становится восхождением на более высокую ступень существования. Ни детскость, ни гениальность, ни свобода в представлении Пеги не исчезают в событии «подчинения», в акте формализации, воплощения, но получают обновленное, дихотомическое по своей структуре — феноменально-ноуменальное бытие.
В эссе Пеги разных лет мысль автора постоянно возвращается к дихотомическому, антиномичному сопряжению Плоти и Духа, Времени и Вечности, Изменяемого и Постоянного, которые, в перспективе христианского мировоззрения автора восходят к неслиянному единству Божественного и человеческого в реальности обновленного Христом мира.
Эта же интуиция, то есть созерцание таинственного единства разнородностей, сохраняющих в соединении свою инаковость по отношению друг к другу, самобытность, созерцание единства, которое в истории явлено только в бытии Богочеловеческого организма Церкви, эксплицитно и имплицитно, красной нитью проходит через все значительные эссе Пеги.
Античность возрождается, по утверждению Пеги, в трудах Отцов Восточной и Западной Церкви; только в святоотеческих творениях достигнутому когда-то, прозвучавшему в древней Элладе сообщается «вечное измерение», вечное звучание; античность прорастает, переходит в вечность именно из христианского времени[6]. Сам этот переход высвечивает, подчеркивает встречу старого и нового. Христиане, согласно Пеги, являются не просто наследниками, но совершителями того, чему начало было положено прежде — в Элладе, в Иудее, в Риме.
Отрицая фактор прогресса в истории культуры, в частности в метафизическом или философском знании, Пеги описательно касается другой концепции, по-иному динамичной, отражающей перемены во времени без линеарной или взрывной трансформации учений или воззрений — это рассеянные в его текстах мысли о «возрастании», проявлении и преображении «от начала» бывшего. Прошлое не умирает и не отменяется, как думает Пеги — в творчестве Корнеля и Расина героическая самоотверженная античность и первохристианское мученичество органично связаны — прошлое обновляется. Ничто не исчезает и не теряет своего смысла и значения, но так устроен мир, что только в плотяных, земных человеках его духовные силы обретают голос, а без согласия «земли» принять невидимое — мысль остается голой, более того, прозрачной, неуловимой, тает, прекрасное не выходит из непознаваемой вечности, не обнаруживает себя во времени и в пространстве, не приносит плодов.
Пеги многократно возвращается к этой теме и в прозаических произведениях, и в поэзии. В поэме «Введение в таинство второй добродетели» концепт единства и взаимодействия планов бытия обогащается, раскрывается еще одной важной гранью — переживанием свободы «земли» как ответственности, как ответа «Небу»: все зависит от нас, от христиан, как уверяет Пеги, от христиан зависит, чтобы вечное не осталось без временного, не прервалось, чтобы духовное не осталось без плотского, не рассеялось, чтобы Иисус не остался без Церкви, Бог — без своего творения.
Христианство, будучи, по выражению Пеги, «вкладыванием одной предметности в другую»[7], или «сочленением», соединением двух природ в одном явлении, взаимопроникновением в едином целом антиномичных реальностей и концептов — Божественного и человеческого, вечного и временного, духовного и плотского… — став продуманной философией и глубоким сердечным убеждением Пеги, именно своей универсальной, последовательной, во всем прослеживаемой дихотомией формировало его взгляды на разные стороны жизни, среди которых словесность занимала обширное и почетное место, являясь областью, аккумулировавшей с молодых лет восторги, раздумья, разнообразные переживания Пеги. Он смотрел на мир сквозь такую систему координат, которую условно можно было бы назвать крестообразной дихотомией: горизонталь здесь обнаруживает себя сопряжением фундаментальных богословско-философских категорий; вертикаль же исторична. В вертикальной перспективе христианский западноевропейский город основан и погружен в город античный; подобным образом французский классицизм — в частности, классицистический театр XVII века — возвещавший, по убеждению Пеги, художественными средствами вечные духовно-нравственные принципы, высшие из которых принадлежат христианству, прочно основан и проникнут духом и стилем античной классической литературы, греческой и римской.
История несет сквозь векá, передвигает во времени точку встречи, момент скрещения вечного и временного. Временный, плотский, чувственный город служит ложем, локализует, обнимает город вечный, духовный. Так тема, сюжет, образы поэмы или трагедии хранят, доколе находят отклик и понимание во времени, свет и тепло вечных истин. Духовное пересекает историю, ее конкретную предметность, и в этих точках пересечения оно сообщает всему, даже мелочам и подробностям, непреходящий характер. На духовное возложена миссия обновления «постоянного града» (Евр. 13, 14) ради стяжания будущего. Реальный земной город христианского мира полагается в подножие Царства Небесного.
Во всех этих размышлениях задача Пеги, как мы можем уяснить ее и сформулировать, заключается в том, чтобы явить Христа и веру в Него как некое объединяющее начало, вмещающее не только сотворенный Им исторический мир, но и вневременный контекст, тот свет, в лучах которого разворачивается история мира. И Пеги постоянно обеспокоен тем, что именно истории, предметности, вещности мира не додается чести, что эта вещная неотчуждаемая сторона жизни брезгливо и высокомерно, вопреки замыслу Бога, ставшего человеком. отодвигается на второй план.
Отсюда понятию «творение» он придает весьма важное — архетипическое, действующее из глубины, априорное — значение. Пишет ли Пеги о поэтическом творчестве, или философствует о церковной жизни, в основе его рефлексии лежит событие, или образ «сотворения» Богом мира. На страницах его текстов «творение» предстает как образно-мыслительная универсалия, как референтные образец и начало; оно совершилось раз и навсегда когда-то, но вновь обновляется в мире через людей.
Обличая современных католических клириков, законников, с его точки зрения, и бюрократов, клерков, Пеги пишет, что в их «пренебрежении веком сим» обнаруживается «устрашающее безбожие», «в их игнорировании, более или менее вольном, более или менее невольном; более или менее несознательном, но, как правило, очень сознательном; в их презрении более или менее напускном; много гордыни, без сомнения, и много лени; то и другое смертные грехи; но что гораздо серьезнее, в некотором смысле бесконечно серьезнее, здесь скрывается великое неверие; в некотором смысле бесконечное неверие; великое незнание части не то чтобы главной, но ответной, со-единенной, противоупорной, необходимой, ни в коем случае не дополнительной; итак, великое неведение того, что есть творение… А иначе не стоило бы и труда [то есть акта творения — П. К.]. Была бы, пребывала бы вечность без промедления»[8].
Но недопустимо, по убеждению Пеги, игнорировать плоть мира, превозноситься над временем. Одну из фундаментальных причин наблюдаемой им дехристианизации Франции он видит в духовном упадке клира. Клерки, ответственные за дело вечности в истории, невозвратно теряют время, не вкладывают себя в него, не сеют свои труды, заботы в земную повседневность ради нетленных всходов. Скупо отдающие себя истории, то есть своим современникам, противятся жизни вечной.
Сквозной темой пеги, звучащей, как скорбный мотив в текстах разных периодов его творческой судьбы, впервые заявившей о себе в годы его социалистического идеализма и на исчезнувшей до последних эссе, является «бесконечное страдание» от сознания того, что «погибают души»[9], непросвещенные, ожесточенные, потерявшие или не познавшие Христа.
Пеги напоминает, что Христос, о «подражании» Которому пишут, говорят и учат католики, пришел, чтобы «послужить»[10] людям, войти в их жизнь глубоко; в Его служении, по мысли Пеги, нет преобладания какой-либо из сторон: оно не более человеческое, не более духовное, но «неделимое». Поэтому, делает вывод Пеги, всякое духовное начинание есть проявление любви и сострадания, оно устремлено к веку сему, а не прочь от него. Выход из мира — например, предельный его вариант: уход в монашество — и даже всякое серьезное и последовательное нежелание погружаться в мирскую, светскую жизнь сопряжено, как видится Пеги, с принесением жертвы ради жизни мира. Изъятие части материи из мира может совершаться в целях ее освящения и это создает тогда, по Пеги, обновленную материю, пищу для питания того же мира. Отделяя, освящая некую часть мира, Бог возвращает ее миру и в ней приходит Сам в той Плоти, Что соединяет мир и Творца.
Пеги, рассуждая о «высоком», проводит смелые параллели: небо у него «отражается» везде, где ему кажется возможным отражение или, пользуясь его языком, действие «того же механизма». Обращаясь к античной культуре, Пеги пишет, что тексты и памятники Античности не относятся только к истории, к хронике культуры в виде перечня объектов и экспонатов, но «питают собою» человека и гражданина, воспитывают все новые поколения людей. Слово же Божие питает человека полнее и таинственнее, глубже: и как Слово, воздействуя на то, что имманентно душе и что традиционно обозначается как чувства зависимости, ответственности, как совесть, жажда высшего, потребность в Боге; но и питает чувственно, вещественно, «под видом» Своих Плоти и Крови. Питает и душу, и тело: и историей — в широком смысле, как совокупностью положительного или назидательного опыта — насыщает во времени; и взращивает ощутимо для вечности. Пеги здесь мыслит органически и интуитивно, провидит в первоначалах — формы будущего, сохраняющие родство, схожесть со своим прошлым, но обогащенные, преображенные новым опытом, и уже не в своих недрах найденным, но полученным извне, из источника жизни, из Бога, которого учитель Пеги Бергсон называл Жизнью непрекращающейся.
Войти в течение времени, в мир означало для Христа отдать себя этому течению, принести Себя в жертву. Но Христос, как отмечает Пеги, придя в мир, чтобы спасти его, пришел (и приходит) в него дважды. «Или, вернее, Он пришел однажды, но двояким образом»[11]. В первое пришествие Он явился однажды в истории, но Он же приходит ежедневно в Своих воскресших Плоти и Крови. Он не отлучается от Себя, но в той же точке совершает исхождение и пришествие в движущийся и, перед вечностью, неподвижный мир. Неподвижный в своем трансцендентном «основании», ибо мир основан на постоянстве, которое, по определению, хранит верность самому себе, на константе, на «камне» мысли, логоса, слова, сказанного в тайне вечного и абсолютного Сознания, но сказанного в смысле про-изнесенного, сказанного из Себя, Собою.
Пеги обнимает предмет описания одним взглядом, целостно, при этом он пытается войти в него, «инкорпорироваться» — то есть буквально во-плотиться, услышать и увидеть его живым, уловить его «внутреннюю мелодию» (Бергсон), он стремится осознать его в аспекте телеологическом, обозреть его от причин и интенций до целей, присущих объекту всегда и везде — отсюда в его текстах часто встречаются образы средоточия, точки, узла, когда он, как в только что изложенном фрагменте, говорит о спасительной миссии Христа, или когда рассуждает о хронотопе как соединении в обозримое, концентрированное целое многообразия истории, или когда пишет о неотграниченности, длительности переживаемых сейчас и здесь впечатлений и умопредставлений. Во всех этих душевных операциях Пеги предстает верным и творческим учеником Анри Бергсона; учеником, который, буквально, усвоил, сделал своими интуиции, идеи, образы выдающегося представителя «философии жизни». Пеги диагностирует в духовно-интеллектуальной жизни человечества две хронические болезни, периодически проявляющие себя в различных обстоятельствах: это, обобщая, материализм и спиритуализм. Материализм низок и груб для чутких душ, но болезнь ложной духовности, брезгливого отношения к повседневности намного опаснее, ибо много соблазнительнее для умов утонченных и гордых. Христианство же есть чрезвычайно хрупкое с мирской точки зрения и изумительно точное с религиозной равновесие духовного и плотского.
Указывая на хронические болезни думающей части человечества, Пеги продолжает, развивает известное антропологическое рассуждение из «Мыслей» Паскаля о «мыслящем тростнике». К данному фрагменту «Мыслей» он обращается в эссе «Предрассветной порой», где дает развернутые цитаты из Паскаля, и в «Диалоге истории с душою во плоти». «Человек, — цитирует Пеги, — не ангел и не животное, и несчастье его в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается животное»[12]. Те же, которые желают сделаться животными, позже по тексту уточняет Пеги, животными и становятся.
Важно именно соприсутствие, взаимно уравновешивающее друг друга со-стояние небесного и земного. «Опасное дело, — пишет Паскаль, — убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее — не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой натуры. Благотворно одно — рассказать ему и о той его стороне, и о другой»[13]. О его величии в смирении, слабости, как уточняет Пеги, и о слабости, немощи в величии. Христос воплотился для спасения человека, который есть существо одухотворенно-земное, психосоматическое, но не для ангела, и не для зверя.
Во многих эссе, особенно в «Диалоге истории с душою во плоти», Пеги уделяет большое внимание теме греха и грешника. Он подчеркивает, что воплощение Христово имело целью избавление от греха и смерти всех людей, до последних отверженных. Пеги постоянно возвращается к той мысли, что «грешник, в известном смысле, не менее христианин, чем святой»[14]. Грех, как считает Пеги, не чужд христианству, он чужд святости. Христианство выявляет грехи, оно как будто «производит» их. Не будь христианства, существовали бы разные ошибки, беззакония и преступления, но греха, а значит и вины, стыда, угрызений совести и покаяния не существовало бы. И был бы героизм, украшали бы человечество нежность и сочувствие, но не просияла бы святость.
Но «современный мир» (понятие, означающее на языке Пеги совокупность всех негативных особенностей текущего момента истории), мир усиливающейся апостасúи — отступления от религиозных принципов, ценностей и идеалов, формировавших западную христианскую культуру — ослабляет, принижает и трансформирует, сближая и смешивая, крайности привычных ментальных оппозиций: он осуществляет пропорциональное понижение бинарных пар, пар-противоположностей, а именно: греха и добродетели, безбожия и святости, предательства и героизма. И слово, и образ, и свое понимание «святости» современный мир упорно внедряет во все сферы, склоняет, как, впрочем, и понятие «духовности», во всех обстоятельствах, кроме области и контекста собственно теологических, чем как нельзя успешнее достигается, через обмирщение, искажение сути феномена.
Грешник, искренне сознающий себя таковым, не более чужд христианству, как думает Пеги, чем был Виктор Гюго по отношению к «французской общественной жизни, литературе и искусству» в бытность свою в изгнании, в Бельгии и Англии. Разлука с родиной сообщила свидетельству Гюго о Франции — в «Возмездиях», в «Легенде веков» — замечательную проницательность, ясность и вместе с лирической мягкостью, с остротой воспоминаний и переживаний способность к смелым, монументальным обобщениям. Изгнание, полагает Пеги, может еще глубже ввести в ту среду, которой внешне лишается человек. Так грешник отлученный, но не лишенный возможности покаяния, остается внутренним красноречивым свидетелем христианства.
Святые называли и считали себя первыми из грешников. «Современный мир», как пишет Пеги, это мир, где грех перестал быть событием исключительным, отдельным, обозначенным и сосчитанным, имеющим пределы. Грех растворяется в «современном мире», пропитывает собою все, всю ткань жизни. В «современном мире» господствует некое всесмешение, в нем постепенно сближаются и уравновешиваются разности, самобытности, исключительности, он стремится, провозглашая «свободу, равенство и братство» к ложному универсализму[15], проходящему по нижнему, материально-эвдемоническому уровню жизнедеятельности. Такая примитивизация опасна тем, что способствует установлению некоего «теплового равновесия» в культуре, ее омертвению.
Для исследователей творчества Шарля Пеги ценным источником сведений о его жизни и труда являются «Беседы и письма» — сборник, подготовленный и изданный сыном Пеги Марселем. Марсель Пеги убежден, что в лице Шарля Пеги во Франции начала XX века подвизался на поприще литературы и философии один из последних доверчивых и преданных учеников Платона, Аристотеля и Плотина, таких — в отличие от многих прочих, сделавших эллинскую мудрость своей специальностью — которые верили в этих философов, питали к ним своего рода священное почтение, жизнь свою пытались основать на их учении. В молодости Ш. Пеги называл себя, как пишет Марсель, «последователем греческой религии» — он имел в виду верования философов — а также в социальной деятельности — «моралистом». Отправляясь от «морализма», от мечтаний о «нравственной революции» (Пеги часто повторял в период своей социалистической активности: «Революция может быть только нравственной, или ее быть не может»), Пеги «поэтапно» приближался к Церкви, причем это внутреннее приближение, совершаемое в уме и сердце, удостоверялось усилиями и внешними, и все вместе находили отражение в его произведениях: в ранней «Мистерии о милосердии Жанны д’Арк», во всех крупных эссе и поэмах. Изучение обширной литературы о жизни и подвиге Орлеанской девы, постоянные раздумья о деяниях и свидетельстве Людовика Святого и мученика Полиевкта (из истории и из трагедии Корнеля) не прошли даром для души мыслителя и поэта, в которой незримо происходили глубокие перемены. И предпринимая паломничества к Собору Богоматери в Шартре, описанные в часто цитируемых стихах из поэмы «Гобелен Богородицы», Пеги, как полагает его сын, не отдалялся от идей и высоконравственных целей первых классиков. Отец повторял, как вспоминает Марсель, что «нельзя быть христианином против кого-либо».
Древние трудились, по убеждению Ш. Пеги, чтобы завещать свою мудрость и красоту зданий, скульптур и речи — христианской культуре, чтобы предвозвестить — нечаянно, чудесно — Христа и стать — и остаться — участниками Его миссии.
[1] Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный анализ мировой культуры // Тезаурусный анализ мировой культуры: Сб. науч. трудов. Вып. 1. М., 2005. С. 5.
[2] Péguy Ch. Œuvres en prose complètes. P., 1992. T. III. P. 624.
[3] Péguy Ch. Op. cit. P. 624. Рассуждения Пеги напоминают теоретико-литературные построения Вильгельма Дильтея (1833–1911), стоящего у истоков т. н. духовно-исторической школы в литературоведении. Дильтей, проводя мысленные параллели между жизнью человеческой личности и существованием общественных институтов, отмечал уникальное сочетание в одном субъекте или объекте различных влияний и воздействий, что, в свою очередь, говорило философу о неповторимом своеобразии эпох и систем в истории культуры, о «духе» отдельной эпохи — о духе античности, духе средневековья, классицизма, романтизма. Дильтею же принадлежат и идеи необходимости для историка культуры «вживания», «вчувствования» в свой предмет, без чего немыслимо понимание исследователем чужого мира. Подобные мысли, а именно о вхождении внутрь произведения, об «инкорпорировании» в него, об осознании авторского замысла в его формально-содержательном единстве встречаются и у Пеги, в частности в его эссе «Виктор-Мари, граф Гюго», литературно-критическом по преимуществу. Имело ли место непосредственное влияние Дильтея на Пеги или на преподавателей и студентов Эколь Нормаль в 90-е гг. XIX в. и позже, когда немецкий ученый был уже достаточно известен у себя на родине? Скорее всего нет. Ни имени Дильтея, ни ссылок на немецких литературоведов той эпохи в текстах Пеги не обнаруживается.
[4] Péguy Ch. Op. cit. P. 625.
[5] Религия от латинского religare — связывать, соединять.
[6] Ср. у Ап. Павла его строки в Послании к Евреям о вере и о древних святых, которые не без христиан «достигли совершенства» (Евр. 11, 40).
[7] Péguy Ch. Op. cit. P. 668.
[8] Péguy Ch. Op. cit. P. 640.
[9] Ibid. P. 704.
[10] Ср.: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).
[11] Péguy Ch. Op. cit. P. 655.
[12] Паскаль Б. Мысли. М., 1974. С. 171.
[13] Там же. С. 179.
[14] Péguy Ch. Op. cit. P. 684. Любопытно, что эти мысли не ускользнули от внимания С. И. Фуделя, русского духовного писателя, взявшего на себя мужественную миссию просвещения своих расцерковленных современников в 60–70 годы ХХ века. В своей книге «Наследство Достоевского» (1963) Фудель приводит «слова французского поэта и философа Шарля Пеги (1873–1914), взятые в качестве эпиграфа к роману Грэма Грина «Суть дела» (1948)». Вот эти слова: «Никто не понимает христианства, как грешник, никто, разве что святой». Фудель С. И. Собрание сочинений в трех томах. М., 2005. Т. III. Наследство Достоевского. С. 11, 157.
[15] В «походе» против «современного мира» и «интеллектуальной партии» Пеги в иных вопросах рассуждал, на наш взгляд, экзальтированно и пристрастно, но как всегда честно. Он обвинял в бедах секуляризма современную ему интеллигенцию и как будто не учитывал, что многие импульсы для своей деятельности интеллигенция воспринимала из достижений и завоеваний Великой французской революции, искренне принимаемой Пеги, и что идеология Франции на протяжении всего ХI Х века (а также, кстати, ХХ-го и до наших дней) говорила о себе лозунгами, формулами, образами, но уже прирученными, благопристойными, кровавой революционной бури конца XVIII века. Впрочем, бунтарскому, импульсивному Пеги не претил, вероятно, тот факт, что над Францией его дней реял образ знамени, озвученный национальным гимном, знамени, с которого образно капала кровь братоубийственной войны. Пеги был из народа, его революция оставалась для него символом свободы. Как интуитивист, он должен был бы отказаться от «готовой идеи» о том, что революция есть благо, и допустить, что она, по крайней мере одновременно, есть и зло, а как еще и христианин он должен был бы склониться в пользу второго допущения, так как революционный террор не образно, а реально «оросил» нивы Франции кровью. От революции Пеги не отрекался и не предполагал, безусловно, что воюет с ее логическим и неизбежным развитием.
Отец Павел (Карташев Павел Борисович) — протоиерей, настоятель Преображенской церкви с. Большие Вяземы, Председатель Миссионерского отдела Московской Епархии Русской Православной Церкви, член Координационного совета по связям Министерства образования Московской области и Московской Епархии, преподаватель Коломенской Духовной Семинарии, кандидат филологических наук.
 |
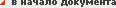 |
|
|
 Вышел в свет
Вышел в свет
№4 журнала за 2021 г.
|
|
|
|